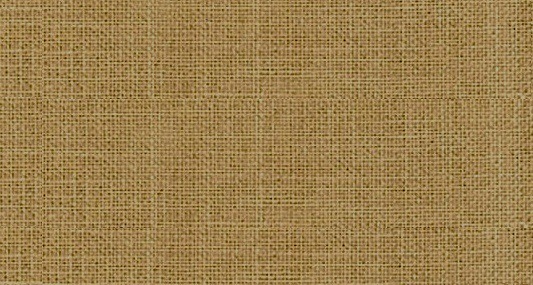ЛЕГЕНДА О МЕРТВОМ БОРИСКЕ
Одна интересная, но не полностью описанная легенда... Хотелось бы узнать больше, но увы - кроме этого ничего больше не обнаружил в сети. Наткнулся на нее, читая книгу Николая Добротворского "Как Магаданцы на новый год белугу пилили". Советую всем приобрести ее и прочитать - очень интересная.
Так уж сложилось, что легенда о золотоискателе Бориске, как первооткрывателе россыпей Колымы, является самой известной. В нее верил даже Юрий Билибин - первый геолог, полноценно исследовавший бассейн реки Колымы и давший знаменитый прогноз о несметных богатствах колымских земель. Именно по его предложению один из первых колымских приисков в 1931-м году назвали "Борискин".
У истории, как науки есть закон: если факт подтверждают три разных источника, значит он имел место в прошлом. Сюжет об этом колымском старателе официально подтверждают магаданские краеведы. Легенду о нем разнесли по всему бывшему советскому союзу сотни репрессированных, отбывавших свои сроки на Колыме.
Коротко сюжет выглядит так. В 1915-1916-х годах дезертиры царской армии - Борис Шафигуллин и Сафей Гайфулин отправились на поиски колымского золота. Они добрались до поселка Олы по тропам якутов-охотников до притока Колымы-реки Среднекан. На глубине два три метра земляки обнаружили фантастически богатую россыпь, которая стала давать с одного кубометра земли 200-300 граммов золота. За один месяц с помощью кайла и деревянных лотков мужики намыли в реке целое состояние. Золото все шло и шло, а вот продукты были на исходе. Бориска послал компаньона в Олу пополнить провиант. Сам же остался в тайге приумножать свои богатства. Когда Сафей вернулся, то бориску не нашел. Посчитал, что товарищ кинул его, ушел с золотом на Аляску, пока не услышал рассказ местных жителей.
Тем же летом кочующие якуты в низовьях Среднекана нашли Бориску мертвым - он сидел, словно застывший, у пробитого им шурфа. Рядом валялся мешочек, полный золота. Татарина якуты похоронили в его же шурфе. В конце 1920-х годов экспедиция Юрия Билибина нашла в бассейне Среднекана банку из под американского кофе, полную золотого песка. Золотоискатели посчитали ее принадлежащей Бориске и в его честь назвали один из приисков. История татарина-старателя продолжилась во второй половине 1930-х годов. На одном из среднеканских приисков при земляных работах нашли труп высокого мужчины. А при нем дореволюционные документы на имя Бари Шафигуллина.
Можно предположить, что ни богатая золотая россыпь, ни жестяная банка и кожаный кошель с золотым песком прославили Бориску. Известен татарин стал благодаря своей странной, диковинной смерти - в молодом возрасте, при старательском фарте. И одной волею судьбы потерявшего самое бесценное - жизнь. Вот поэтому легенда о Бориске дошла до наших дней, обрастая разными описаниями поражающего воображение стрежня истории - его финала. Вот как вспоминают эту интригующую часть сюжета бывшие колымские репрессированные.
Алексей Яроцкий: «…Бориска обнаружился в шурфе. Видимо, даже в предсмертный час он хотел еще намыть золота. И умер на самом борту шурфа. Борт подтаял, обвалился, и труп Бориски лежал на дне шурфа, прямо на золотоносном песке».
Петр Демант: «…старейшие прииски Колымы, расположенные в окрестностях легендарного Борискина ключа, где у неглубокого шурфа нашли мертвым татарина-старателя по кличке Бориска. Он умер не насильственной смертью, а, наверно, от потрясения, что, наконец, после стольких трудов и поисков исполнилась его мечта: в шурфе обнаружили очень много золота. Бориска, большой и сильный человек, наматывал портянку, когда его настигла судьба. Он так и лежал у шурфа рядом с киркой и сапогом».
Источник: http://www.avp-life.com/2010/08/blog-post_3786.html
ПРИИСК «БОРИСКИН»
У самой большой реки Северо-Вастока — Колымы расположился прииск «Борискин». Днем и ночью паровики гоняли здесь электрогенераторы, пожирая древесину колымской тайги. Падали вековые лиственницы и сгорали в топках локомотивов. Электроэнергия шла в шахты, приводила в движение тереконные лебедки, компрессоры, двигатели пром-приборов. Днем и ночью работали в шахтах невольники, подавая на-гора золотоносные пески.
Мне не пришлось на «Борискине» жить и работать под конвоем, так как будучи специалистом попал в барак расконвоированных. Среди жителей барака в основном были квалифицированные работники, осужденные по 58-й статье. Работать я начал на компрессоре при одной из шахт. Помещение компрессорной было у шахты на вольном воздухе в таежном просторе. Работа была нетрудная, было тепло, кормили сносно.
Люди, с которыми я в основном общался, были мастеровые городские труженики, настоящий пролетариат, интеллигенция, теперь превращенные в разного рода подсобников. Были ученые, видные государственные деятели. Поэтому в бараке я жил с людьми, а не со сворой блатных.
Рабочие мехцеха встретили меня дружелюбно. Все работающие здесь были когда-то членами партии. Относились друг к другу по-человечески. С одним из таких людей мне пришлось познакомиться здесь. Василий Сергеевич Мельников — мастер мехцеха. Этот человек 1897 года рождения, солдат первой мировой войны. После Октябрьской революции Василий Сергеевич вступает в партию большевиков. В годы гражданской войны он от рядового бойца дослужился до командира. После гражданской войны он оставляет военное дело и переходит на государственную работу. Его арестовали после XVII съезда, по дороге домой, прямо в поезде. В это время он работал в должности председателя облисполкома в Азербайджане.
Дали ему 10 лет за КРД, загнали в Севвостлаг на Колыму, где я и встретился с ним.
Его положение в лагере позволяло сделать много хорошего для несчастных узников. Я, один из мучеников ГУЛАГа, которому пришлось пережить рабство неволи и тяжкий каторжный труд, чувствовал братскую руку товарища, спасающего мою жизнь. Многие уцелели в лагере благодаря большой душевной силе этого человека. Сила и воля его остались не сломленными в лагере, он всегда был Человеком.
Василий Сергеевич Мельников теперь живет в городе Майкопе, он персональный пенсионер всесоюзного значения. Я радуюсь тому, что он жив...
В 1943 году я попадаю в больницу лагеря на Утинке. Истощение, изнурение привели к заболеванию моих рук. Они были покрыты фурункулами. Сделали операцию, удалили на левой руке сустав пальца, вскрыли ладонь, а через несколько дней отправили на заготовку дров.
На необъятных просторах Колымы, там, где только что появился человек, стоял вековой лес лиственницы. Деревья стояли непроходимой чащей, высоко уходя в небо. Тут белка была не пуганной. Заехать сюда можно было только зимой. Впереди шел трактор с санями, прокладывая дорогу, а за ним шли около сотни заключенных, охраняемых конвоем. Забравшись в глухомань, мы набрели на избушку-барак, утопающую в снегу по самую крышу. Раскопали вход, разожгли печку и стали обогреваться. Несколько человек из нас умерли по дороге, их никто не хоронил, оставили на съедение таежному зверю. Из пищи у нас были только хлеб да снег, который растапливали и кипятили.
Рубили вековые лиственницы, уходя в снег чуть ли не с головой. Пока доберешься до ствола да отопчешь снег вокруг — и дух вон. Повалишь великана, упадет красавица-лиственница, в обхвате около метра, утонет в снегу точно в пуховой перине. И вновь лазаешь вокруг ствола, очищая его от ветвей и разрезая на части. Потом тащишь в штабель. И так с рассвета до темна. Мало дров выходило, а работы много. Хлеб же давали только за дрова. И падали люди, умирая и замерзая на глазах друг у друга, и помочь им было некому, так как и те, кто еще двигался, были на грани смерти. Больше половины не вернулось из этой командировки. Оставшиеся в живых уже не могли работать, и тогда нас погрузили в тракторные сани, как дрова, и повезли обратно.
Плотников В. Д. "Колыма-Колымушка". - Магадан : МАОБТИ, 2001. - 64 с. (Архивы памяти ; вып. 7).
Источник: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/au … p;num=4319